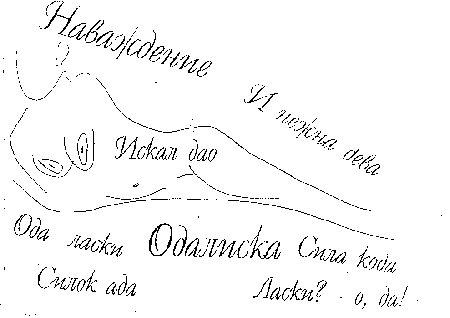|
|
| ||||||||||||||
|
Устав и
традиции
ОТРЫВКИ ИЗ КНИГ:
Воспоминания
Кому суждено быть
Анаграммы
|
Многих, с кем я познакомился, лечил отец, который был виновником стремительно расширявшегося круга общения. Вольф Мессинг оказался одним из первых и, может быть, наиболее интересным собеседником. Хотя почти всем было что рассказать, его рассказы, пожалуй, не с кем было сравнить. И не по их качеству, как раз рассказчик он был, что называется, никакой. Но ни от кого одного я больше не слышал рассказов о Черчилле, Сталине, Гитлере, Эйнштейне, Рахманинове, Боре, Бунине, Берии, Северянине и еще Бог знает о ком. Дней двадцать он приходил ежедневно и после десятиминутного медицинского контакта все усаживались пить чай, за которым Мессинг устраивал свои представления. Я не оговорился - это были именно представления, потому что все его встречи были только поводом для демонстрации того, что мог делать наш гость. А мог он - многое. В сущности говоря, для меня осталось неясно - что же он не мог? Как известно, ему было запрещено публично показывать почти все, кроме мнемонических опытов, чем он и ограничивал свои демонстрации на концертной эстраде. Дома же он, почувствовав безопасность и доверие, распоясывался ad maximum, и с каждым днем все больше и больше. Дело дошло до того, что он показывал прохождение через стену, имматериализацию тела, возникновение фантомных образов, разные формы левитации, "чтение мыслей" и текстов на любом расстоянии, управление чужим вниманием и волей и многое другое. Причем все формы воздействия были, как правило, бессловесными. Скажем, сидим мы, пьем чай, напротив меня - мать, слева - отец, справа - Мессинг, который увлеченно рассказывает, как он убедил Эйнштейна, что чудо существует, в основном обращаясь к матери, кажется, ему нравившейся. И вдруг я обнаруживаю, что моя рука с чашкой чая беспомощно повисает в воздухе, рот немеет и весь я как бы окоченеваю. Мать первая замечает странность в моем поведении, тщетно пробует расшевелить меня, но я почти ничего не слышу. Прошло несколько минут, и также незаметно я начинаю растормаживаться и вскоре возвращаюсь в свое прежнее состояние. Или еще - он обращается к отцу с предложением - не хочет ли он увидеть музыку. Так как мой цветоформный слух был не только мне известен, но изрядно калечил мне жизнь, то меня как раз это мало удивляло. Для отца же это свойство психики практически не существовало. И вот меня усадили что-то играть (кажется, прелюдии Шопена) и через несколько секунд в углу у печки-голландки стали возникать и разрастаться кристаллообразные структуры, типа цветных ледяных торосов, которые, кстати, совершенно не соответствовали тому, что в этой музыке (с этой музыкой) видел обычно я. По репликам отца и матери я понял, что оба они видели одно и то же. Когда я прекратил играть, какое-то время кристаллы еще сохранялись, а потом постепенно стали истаивать, испаряясь, подобно замороженному углекислому газу. По какому-то поводу отец вспомнил о своем брате, который, вернувшись с фронта, где-то по дешевке купил громадное количество облигаций, хотя, будучи финансистом-профессионалом, не мог не знать преступности такой покупки, которая кончилась тем, что он угодил в тюрьму. Мессинг спросил отца - не хочет ли он с ним встретиться. Отец сказал - конечно, но ему еще сидеть три года, на что В.М. предложил сделать это сейчас, вызвав недовольную реплику матери: - Не смешно. На этих словах открылась дверь и вошел дядя Лазарь, одетый в свой цивильный костюм, хотя и изрядно постаревший и помятый. Не нужно объяснять реакцию родителей. Отец, умело имитируя самообладание и совершенно чуждый сентиментальности, небрежно спросил его: - Надо поздравить тебя с досрочным освобождением? Дядя Лазарь, смущенно улыбаясь, ничего не ответил. Только сказал: - Хорошо бы выпить чаю... Мать быстро принесла еще один стакан, гость уселся, сделал несколько глотков, потом вдруг уставился на В.М. и довольно грубо (что вообще-то было похоже на него) спросил, показывая пальцем: - А это кто? Мать, не переносившая никакой грубости ни в каком виде, стала как-то заглаживать возникшую бестактность. Но дальше произошло нечто окончательно невнятное. В.М. встал и, хотя его ни о чем не спрашивали, странным шепотом произнес: - А я - никто, потому что меня - нет. И исчез, оставив после себя дымок, слегка припахивающий сладковатой копченостью. Мать почему-то сразу вышла, отец с братом сели на диван и предались каким-то воспоминаниям, которые слушать мне было совершенно необязательно. Впрочем, однажды они прервали свой разговор, и дядя Лазарь спросил, как мои музыкальные успехи. Я стал что-то рассказывать, после чего он попросил сыграть мою экзаменационную работу (первую сонату для фортепиано). Я направился к пианино - тому самому, которое стоит сейчас напротив меня, поблескивая своим черным лаковым боком - сел и начал играть. Когда я дошел до разработки темы, все у меня стало расплываться перед глазами, я стал как бы терять сознание - и пришел в себя, когда все четверо - отец, мать, В.М. и я - сидели за столом и пили чай, а наш гость рассказывал, как он обсуждал с астрологом Гитлера ближайшее будущее Европы. Потом он ушел, а отец и мать как-то неясно и отстраненно – как будто они говорили не друг с другом непосредственно, а через переводчика - обсуждали дела дяди Лазаря и его семьи, непривычно для меня не отвечая на мои вопросы. Когда В.М. пришел на следующий день, я спросил его о вчерашнем, на что он по-деловому разъяснил мне, что встреча, которую, как он выразился, “организовал”, произошла в “тонком мире”, о котором я, кажется, тогда услышал впервые. И уж, во всяком случае, впервые увидел какие-то действия, могущие происходить в нем. Что же касается его рассказов, то многие из них - хотя далеко не все - он описал в своих мемуарах, которые публиковались несколько раз; я помню их фрагменты в “Науке и религии”, потом видел отдельное издание, похоже, сильно измененное относительно первой публикации. И никогда я не видел его перед публикой. Он сам просил, чтобы мы не ходили на эти, как он выражался, “массовые профанации”. Когда однажды отец спросил его - а показывал ли он публично то, что мы видели дома, он с грустью сказал: - Все? Никогда и нигде.
Когда я направлялся на встречу со своим знакомым скульптором, жившим в центре Москвы, то не мог даже предположить, что явлюсь свидетелем необычного зрелища. Недалеко от дома, где жил скульптор, я увидел легковой автомобиль, вокруг которого толпилась публика. Дело было в январе, и, действительно было непонятно, как сильно немолодой человек с длинной седой бородой, одетый только в длинные черные трусы до колена, совершал странные пассы, стоя около машины. Потом он, в сопровождении двух женщин, направился на Кузнецкий мост, подошел к дому, куда нужно было и мне, поднялся на шестой этаж и позвонил в квартиру, где жил скульптор. Короче, оказалось, что мы шли по одному адресу. Скульптор сказал, что у него тяжело больна жена, и он пригласил ее полечить П.К. Чтобы было понятно дальнейшее - два слова о его жене. Она была ученицей и другом Малевича - эта древняя старушка, каких называют "Божий одуванчик". Именно такой она и была - высохшая, тонкая, прозрачная, почти невидимая. Она была на сорок лет (!) старше мужа, а он относился к ней так же как к большой ветке коралла - боясь притронуться и чем-нибудь навредить. И притом, она была тонким, изысканным колористом, писала по голубой бумаге паутинными цветными нитями-линиями, добиваясь редкой воздушности и невесомости, нематериальности изображения, в чем была совершенно непохожа на своего великого учителя, которого безмерно почитала, поместив его портрет рядом с иконой в красном углу. Ее интереснейшие рассказы о Малевиче я когда-нибудь запишу... В этот день она лежала в кровати в углу под иконой и портретом и еле дышала. Да и скульптор предупредил меня, что "дело швах", что он пригласил П.К. "на всякий случай", а вообще-то готов к самому худшему... Вошел П.К., посмотрел пристально на больную и спросил ее: - Чего тебе хочется, мать? В ответ прозвучало, прошелестело нечто неслышимое и неуловимое, но П.К. почему-то остался доволен. Бодро потирая руки, он сказал скульптору: - Внутри она вся живая для себя. И жила неторопливо. Сколько ей? Восемьдесят? Вот видишь - все правильно. И нечего ее торопить, еще успеет... И прервав сам себя, попросил принести побольше холодной воды. - Что значит "побольше"? - Ну, ведра два. Скульптор принес. П.К. взял одно ведро и вдруг вылил его на больную. С пронзительно-тонким, почти стеклянным визгом она вскочила со своего ложа и, неуклюже размахивая руками, побежала по комнате. После почти полугодового лежания она совершенно разучилась ходить и передвигалась так, как если бы только начинала заново учиться ходить. П.К. припустился за ней, догнал, окатив вторым ведром воды, попросил принести еще, подхватил ее чуть ли не двумя пальцами, положил на диван в другой комнате, попросил закутать ее получше и, когда ее Максим завернул ее в два одеяла, сказал: - Вот что сейчас ей нужно. Прежде всего - жалей ее, радуйся, что она есть вот такая, как из воздуха и тени. Повторяй ей каждый день, что нужна тебе. Это ее картинки? - он как бы только увидел большие, в рост человека, листы, - Вот видишь, какая чистота - как небо. Раз в неделю купай ее. Холодной воды не бойся, она заберет с собой всю хворь. И еще: пока она лежит - девок не лапай: и тебе будет мало радости, и ей повредишь. П.К. вошел в комнату, где лежала больная, осторожно коснулся одеяла. - А ты, матушка, утром и вечером в восемь часов, после того, как помолишься, посмотри в правый угол, подумай обо мне и пожелай себе здоровья. О своей болезни не думай - нет ее у тебя в помине - просто ты устала и захламилась всякой ненужностью. Умоешь мысли, очистишь душу, и тело освободится от всякого мусора и всего лишнего. И он ушел, оставив ее - тихо плачущую, Максима - ошарашенного необъяснимым методом лечения - и залитую водой кровать. Через пару лет мне суждено было видеть П.К. и его жену в его доме, удивляться его снежным купаньям, слушать его наивно-простые и дельные советы многочисленным почитателям, буквально осадившим его. А еще через несколько лет узнал от его жены горестную историю кончины Порфирия Корнеевича. - Когда он засыпал, то говорил мне: ни в коем разе не хорони меня; оставь лежать в холодной прихожей, не связывай и не обряжай меня; как жил, так пусть и останусь. И тогда на девятый день я подам голос, снеси меня, положи ненадолго в снег, потом возврати в горницу - и я вернусь к тебе. Но все вышло иначе. Как он уснул, пришел врач - а за ним, знаешь, какой надзор был, каждое движение просматривалось, - так вот, пришел врач, признал смерть, его похоронили, а около могилы поставили милиционеров, не подпускали никого. А ты, хочешь верь, хочешь не верь - несколько дней над могилой его земля шевелилась и подрагивала... ...А жена скульптора действительно выздоровела и прожила активную жизнь еще полдесятка лет. Умерла она внезапно и по странному совпадению в один день с Порфирием Корнеевичем. И последнее. Как известно, Э.Митчелл и А.Шепард 5.11.71 совершили посадку на Луну. После завершения запланированных испытаний они покинули Луну, но столкнулись с трудностями при стыковке лунного модуля и орбитального корабля; она удалась только с шестой попытки. После возвращения Э.Митчелл уволился из отряда космонавтов и "ушел в религию". В один из своих приездов в Москву Э.Митчелл увидел у одного из космонавтов на столе фотографию старика с седой бородой и спросил: "А кто это?" - "Это наш известный целитель Порфирий Корнеевич Иванов", - ответили ему. "Так ведь это его мы видели на Луне!" - воскликнул Э.Митчелл. ...В мой последний визит на хутор Верхний Кондрючий жена П.К. показала мне его тетрадь, где в записи от 5.11.71 г. было написано буквально следующее: "Природа была против присутствия людей на Луне и решила их оставить, но я упросил Природу отпустить их"... Воспоминания об Алексее Калкине, знаменитом эпическом певце и шамане, неотделимы от экспедиции на Горный Алтай, благодаря которой я смог встретиться с ним и общаться несколько дней. И хотя о своих экспедициях я предполагаю рассказать в своем месте, но и здесь придется коснуться ее некоторых подробностей. Вняв неоднократным приглашениям своего ученика Бориса Шульгина, книжку которого об алтайской музыке я тогда редактировал и к которой написал предисловие, я собрался в фольклорный вояж. Приглашение Бориса заключало изюминку, против которой я не смог устоять - возможности послушать и записать камлания последнего живого шамана. В Горно-Алтайске я узнал, что Алексей Калкин живет в селе Ябоган Усть-Канского района, куда я и отправился со своей будущей женой. Вернее - я знал, что он живет в Усть-Канском районе, а где - предстояло уточнить в районном центре. Всю дорогу от Горно-Алтайска почти до Усть-Кана откуда-то сзади доносилось громкое пьяное пение, перемежавшееся руганью по-алтайски. Прибыв в Усть-Кан, первым делом мы явились в райком партии, чтобы засвидетельствовать свое почтение и получить необходимое содействие в транспорте, учитывая гигантские расстояния и почти бездействующую государственную связь. Когда я сказал, что среди всего прочего хочу посетить и записать алтайского сказителя Калкина, лицо секретаря райкома, ранее излучавшего любезные улыбки, вдруг окаменело и он, сделав незаметный жест, (под столом нажав кнопку), сказал - об этом вы поговорите с секретарем по идеологии. Через минуту явилась молодая миловидная алтайка, которая на прекрасном, чистом русском языке спросила, что нам нужно. Мы повторили свою просьбу, подчеркнув важность сохранения эпических традиций, которые почти везде уже давно утрачены, что А. Калкин - выдающийся сказитель и т.п., на что в ответ услышали, что для центра он - сказитель и еще что угодно, а для нас - бесконечные заботы и неприятности. И пояснила, что он несколько лет назад начал сам лечить от бесплодия, за полгода своими шаманскими манипуляциями вылечил тринадцать женщин, у которых родилось тринадцать детей, очень похожих на него - таких же круглолицых, рыжих и курносых, причем известно, что он не прикасался к ним. Я засмеялся, и это почему-то еще больше раздражило ее. Вам смех, - сказала она, - а нам - выговоры по партийной линии и еще приглашение кое-куда. Пришлось подвергнуть его уголовному преследованию. Когда же он освободился из заключения, то обиделся на Советскую власть и при удобном случае отправил гигантское стадо сырлыков (яков) в Монголию, вызвав серьезный международный скандал... - Как это отправил? Он что - был пастух? - Никакой он не пастух; он же совершенно слеп. Просто он махнул рукой проходящему стаду, и все оно ушло в Монголию, и до сих пор мы не можем вернуть его назад. И она рассказала еще несколько историй, в которых главный герой был А. Калкин. Так он легко отыскивал потерявшийся в горах скот, лечил от самых разных болезней, предсказывал судьбу и даже управлял событиями, влияя не только на людей, но и на неодушевленные предметы. Я снова засмеялся, а она, было успокоившись, снова обиделась. Вам - смех, а нам - убытки. Мы однажды не смогли дать ему транспорт для поездки в город, он разозлился и, неизвестно как, испортил все машины в нашем МТС. Не буду дальше описывать нашего разговора, длившегося добрых полдня. Он кончился тем, что нам дали машину, но она тоже поехала с нами, объяснив, что Калкин не знает русского языка и нам все равно нужен будет переводчик. Впоследствии оказалось, что, действительно, говорит он только по-алтайски, но его жена, дочь и сын прекрасно владеют русским языком и в ее услугах не было необходимости. Да, похоже, дело было не в этом, а в политическом надзоре. Приехав в село Ябоган, мы отправились к Калкину. Его дом стоял на краю деревни. Вернее, было два жилища: русская изба-пятистенка и аил-юрта со стенами из шкур сырлыков, а около нее - узорчатый тотемный столб. Как только мы подъехали, он вышел из аила - невысокий, рыжеватый, с костистым сухим лицом, в чистой мятой светлой рубашке с длинными рукавами и солдатских брюках, в кирзовых сапогах. Он отогнул полы и мы вошли в душный полумрак аила, пол и стены которого были выстланы шкурами мехом наружу. Калкин что-то сказал и сразу же бесследно исчез - как растворился в воздухе. Через минут пятнадцать он вернулся, прижимая к груди несколько бутылок водки. Вошел он буквально сквозь стену. Я специально потрогал то место, через которое он проходил. Оно было совершенно сплошным - никаких признаков клапана, открывающегося полога там не было. Я вопросительно посмотрел на сопровождающую нас райкомовскую функционершу, но лицо ее совершенно задеревенело, а немигающие черные глаза ничего не выражали. Тем временем появились стаканы, и мы начали разливать водку. В непривычно-нечеловеческой континентальной жаре, да еще в душегубке аила пить было совершенно невозможно. Естественно, что я налил всем понемногу, но Калкин, при его полной слепоте, потребовал, чтобы мы наливали полные стаканы, и когда мы все-таки постарались этого избежать, он сделал это сам, заполнив их точно до краев. Кое-как выпив отвратительное теплое зелье, которое оказалось не водкой, а арочкой из молока, сброженного какой-то жилой росомахи, пахнувшее сивухой и падалью..., я некоторое время приходил в себя, после чего через райкомовскую переводчицу рассказал, что меня интересует. Он сказал, что камлать он не будет, он забыл (?) как это делается, а попоет - с удовольствием. Я понял, что с этой дамой я не получу того, что нужно. Благо, вскоре появилась его жена, через которую можно было передать ему то, что мы хотим, и получить ответ, чем мы немедля и воспользовались. Пока же мы переместились в его дом, где было электричество (мой магнитофон "Романтик" работал только от сети). В комнате, куда мы вошли, сидела его дочь и с презрением смотрела на отца и на нас. Она училась на бухгалтера, на стене у нее был портрет Есенина, и она считала своего родителя безграмотным дикарем и стыдилась его. Калкин взял в руки топшуур - домброподобный инструмент с длинным грифом, уселся поудобнее, я наладил магнитофон и запись началась. Калкин начал петь эпическое сказание "Маадай-кара" - длиннейшую историю богатырей прошлого. Продолжительность этого эпоса - почти неделя (!) непрерывного музицирования. В изданном варианте, который сокращен в несколько раз, 7738 строк. Запись моя длилась около двух часов. За это время я зафиксировал только вступление, где рассказывалось о том, что за историю мы услышим, как она важна и интересна для понимания алтайского народа, как много у него эпических сказаний и почему выбрано то, которое поется сейчас, давались характеристики основным его персонажам и описывалось место действия этой истории. Как рассказать о самом кае, о том, как он звучал у Калкина? Существующие описания и, в том числе, в академическом издании 1973 года - не только наивны и поверхностны, но, прежде всего, не имеют никакого отношения к реальному интонированию эпоса. Поэтому мне некуда отослать читателя, кроме разве что к единственной тиражированной грампластинке с записью фрагмента исполнения Калкина, но которая, насколько знаю, в основном была вывезена за рубеж. Если говорить о внешней стороне интонирования, то оно строится так: кайчи поет импровизируемый им текст по каноническому сюжету речитативом, аккомпанируя себе на топшууре. В музыкальном смысле основной мелодический материал находится в партии инструмента, а голос выполняет роль своеобразного баса. Он малоподвижен, в основном ограничивается тремя звуками. Но это - не просто бас, очерчивающий гармонический контур. Интонируемый голосом он сам - многослоен. Это не двухголосное тувинское или башкирское пение. Скорее его можно было бы уподобить вибрирующей органной педальной звучности, где ряд обертонов звучат почти так же громко, как основной тон, но при этом они почему-то не сливаются в аккорд, а вибрируют как бы обособленно, независимо друг от друга. В результате образуется почти не описываемая словами звучность - густая, насыщенная, плотная и, в то же время подвижная, обладающая исключительной мощью - и не только акустической. Судя по производимому ею впечатлению и по ее воздействию, в энергетике кая есть нечто такое, что, оставаясь физически неуловимым, способно влиять на человека, вводя его в состояние транса, при котором полностью исчезает ощущение и времени, и себя. Более того, есть подтвержденные свидетельства воздействия кая на всю живую и косную природу. Жаль, что до настоящего времени эта магическая сила кая и кайчи по настоящему еще не исследована. Много раз и в разных аудиториях демонстрировал я свою - надо сказать, очень несовершенную технически - запись и не было случая, когда слушатели, несмотря на краткость показа и несовершенство записи не почувствовали себя в "магическом круге"... После краткого отдыха, заполненного очередным возлиянием и грубоватыми шутками Калкина, рассказавшего странноватую историю человека, перепутавшего палец со своим половым органом и удивлявшемся, почему у него нет детей, он спел сочиненную им песню в честь приехавших из Ленинграда гостей. В этой "приветственной песне" меня удивили неслыханно низкие звуки, которые он издавал - за пределами большой октавы, причем они интонировались четко и точно, без какой бы то ни было размытости. Общение наше длилось два дня, за которые я насмотрелся и наслушался всяких чудес, о которых я еще расскажу когда-нибудь в работе, посвященной музыке в магии. Пока же закончу эту историю воспоминанием о том, как жена захотела сфотографироваться с ним. Сначала он возражал, потом сказал, что все равно ничего не выйдет, но она настаивала и он согласился. Они встали у тотемного столба и я сделал несколько кадров на цветную и черно-белую пленку - у меня было с собой два фотоаппарата. Когда далее в Усть-Коксе я отдал проявить пленки, то все кадры с Калкиным были засвечены. Более того, оба фотоаппарата оказались испорченными. Один из них был из Союза композиторов, и его нужно было немедленно починить, прежде чем возвращать. В мастерской сказали, что они не знают, что с ним. Но когда я отдал его в фольклорную комиссию, то он вдруг заработал, так же как и второй, который я подарил старшей дочери. Что произошло с пленками и аппаратом, осталось навсегда неизвестным.
Не буду лукавить: общение с отцом Александром не сделало меня правоверным православным. Наверное, слишком поздно я встретился с ним. Как там говорили древние китайцы: "человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели сухие и гнилые. Твердое и крепкое - это то, что погибает, а нежное и слабое - это то, что начинает жить" ("Дао дэ Цзин", § 76). Так и я - не выправился бы, а сломался и погиб. Он это понял сразу - и лучше кого бы то ни было в моей жизни, может быть, за исключением М.Ф. Гнесина. Поэтому и почувствовав мою вопросительность и тревогу, он ни в чем не убеждал, ни к чему не призывал и, тем более, ничего не навязывал. Он увидел во мне не возможного прозелита, но мучительно ищущего, принявшего в качестве веры всю полноту звукового мира, управляемого Верховным Существом в образе Безличной Силы, вечного предстоятеля у врат, не знающего - куда и как войти. Он быстро почувствовал это, хотя я и не слишком распространялся и "откровенничал", сразу же отчетливо сказал: -Никому из нас не дано быть учителем, но лишь учеником. Я могу только молиться за вас, за ваш поиск и ваш путь. Все обретете вы сами. Не берусь судить - был ли прав отец Александр. Обрету ли чаемое или навсегда останусь искателем-бродягой собственного бездорожья. Когда я спросил его об этом, он сказал: - Полагаю, что един у нас только невечерний свет христовый, да конечная станция прибытия. Все остальное у каждого свое. Недавно был у меня Х. - и он назвал имя известного библиографа. - он поменял пятиконечную звезду на шестиконечную. А разве дело в количестве концов твоей звезды?.. - Так в чем же, отец Александр? - Есть древнееврейское слово "эмуна" - вера; оно происходит от "аман" - верность: Сохранять верность себе, своему делу и духу, слышать мир как музыку сфер, как благодать и как любовь, что превыше всего. А все остальное, чему почему-то принято поклоняться - исторический антураж, рама, порожденная обстоятельствами, приспособление к сиюминутному пониманию. По какому-то поводу я вспомянул о нанесенных мне обидах, в то время не дававших мне нормально существовать. Отец Александр заметил: - Когда-то Достоевский писал, что обижаться приятно. И мы нередко себя обманываем, убеждая в обратном, а на самом деле выращиваем в себе обиду, носимся с ней как с писаной торбой. Все то оно от измельченности себя и своего, от душной темноты нашей маленькой комнаты души. Да еще - невроз обиды, где приятное, - некая оборотная сторона обуженной души, - а то и псевдопопытка "компенсировать" себя за реальные или мнимые ущемления. (Последнюю фразу я привел из его письма к И. Макаровой-Вышеславцевой. И мне говорил он нечто близкое к своему письму.) Грустно, что понимание не освобождает от ошибок. Добрых двадцать лет прошло со времени моего визита к отцу Александру. Сколько же раз с тех пор я обижался и "по поводу" и без всякого повода, успешно выдумывая разные "ущемления". Нет никаких признаков того, что обидчивость не в меру оставит меня и вовсе не потому, что обида мне приятна, хотя какие-то мазохистские следы и не чужды мне, но скорее, от непроходящей боли от ощущений собственной нереализованности. ...Много лет спустя через сына одной из своих коллег О.Л. я узнал, что он интересовался моей судьбой, читал какие-то мои писания (что было мало удивительно, если знать что он читал почти все). Однажды я отправил к нему своего ученика А.П., вернувшегося совершенно потрясенным и обновленным. А потом пришло известие о его убийстве. У меня есть достоверное свидетельство о том, что он знал своего убийцу, но отказался его назвать. Так не мог поступить никто, кроме отца Александра. Он был единственным и в своей жизни, и в своей смерти. P.S. И странно, и трогательно было узнать, что сын отца Александра Михаил Мень стал депутатом Государственной Думы; странно, потому что как-то трудно представить себе человека из его семьи в этом государственном ристалище с его малоблагородными нравами. И, в то же время - трогательно: значит, действительно, столь сильна была аура вокруг этого имени, что в ее сфере оказалась и его семья, и уже в сыне его люди увидели надежду на возможность справедливости... А тем временем, как рассказал Михаил Мень на пятой международной конференции памяти отца Александра, уже сменилось четыре следователя, каждый из которых уходил, запутав дело донельзя. И последний, Михаил Белотуров, выполняя указания некоторых “верхов”, вновь обратился к подозреваемому, некоему Игорю Бушневу, алиби которого было стопроцентно доказано еще в 1990 году... Что же все-таки происходит вокруг нас? Что это за мир, в котором мы живем?..
Когда на одной из станций в купе вошел высокий, могучего сложения человек с прекрасным светлым лицом и роскошной седой бородой, я, непонятно почему, вдруг понял, что только чудо не позволило мне совершить то, что я уготовил себе на перегоне Бологое - Вышний Волочек. Чудо, которому я и отдал все свои благодарности, не зная, кого еще следует благодарить за свое спасение. И вот я, широко размахнувшись было на описание того, как был спасен доброй и мудрой рукой юноша, заблудившийся в себе, вдруг перестал понимать - что рассказать об этом и как, чтобы можно было ощутить реальность этого спасения. И вижу, что ничего у меня из этого не выйдет. Тем более, что запомнилось мне совсем другое: его рассказ о том, как он обрел истинную веру, о его встречах в сибирском лагере, о людях, которые когда-то вывели его на единственную для него дорогу. И, более всего, он любил и умел молчать о своей вере. Помню, что я прежде всего поражался его неслыханной и невиданной терпимостью ко всему сущему. "Наверное, и вы правы, но и оппонент ваш - тоже", говорил он в ситуациях, которые мне виделись непримиримыми, и об идеях, отрицающих друг друга. Когда я пытался понять - как может быть две противонаправленных истины обе истинными, он спокойно объяснял, что истины - как люди, и они не могут быть верными или неверными. Достаточно того, что они существуют. И еще. Разные истины находятся на различных уровнях духовного существования. Они не пересекаются между собой и поэтому не могут сопоставляться и, тем паче, сооцениваться. С трудом принимая для себя такой взгляд на отношения людей и идей, я сопротивлялся этой цельности, полноте и силе и вспоминал о различных конфессиях и их заведомой несовместимости. - Так уж и заведомой; откуда вы это взяли, милостивый государь, - говорил медленно и несколько церемонно. - Не смешиваете ли вы противостояния людей с их верами? Не поленитесь и возьмите любую священную книгу, буде это Ветхий или Новый Заветы, Коран, Тора или Бхагаватгита. Разве они отрицают друг друга? Разве они спорят между собой? Разве они подвергают хоть какому-нибудь сомнению их установления? Я пребываю в православии. Это мое место, моя жизнь и мое благо. Но вы никогда не услышите от меня ни слова сомнения или осуждения в адрес любой веры, какой бы она ни была. Его стоицизм и душевное спокойствие даже в самых трудных ситуациях поражали. Видя темпераментное возмущение отца по поводу какой-то, ему казавшейся бесспорной, несправедливости, он заметил: - Не надо быть недовольным. Это непродуктивно. Непродуктивно, даже если есть веская тому причина. Но и непрерывно быть довольным - нелепо. Довольство вызывает ожирение сердца, и тогда оно перестает быть органом души, а становится только насосом, разгоняющим кровь. Это - существенная, но далеко не главная функция сердца. Когда я узнал Валентина Феликсовича, он уже начал заметно терять зрение (а к концу жизни - совсем ослеп). Конечно, это мешало и его медицинской работе, и его пастырскому служению. Но я не помню, чтобы он хоть когда-нибудь, даже в шутку, пожаловался или хотя бы обратил наше внимание на свою беду. Такого быть не могло и не было. И здесь его стоицизм вполне сопрягался с его мужеством, позволявшим ему с редким спокойствием переносить неудобства своего непростого существования. А мужество ему было где приложить, если вспомнить все зигзаги его судьбы, хотя бы двадцатилетнее (!) заключение, из которого он вышел не только не сломленным, но - укрепивши свою веру, закаливши свою волю и даже профессионально обогативши свой хирургический опыт. Не случайно, как только он освободился, то сразу же создал новую редакцию "Очерков гнойной хирургии" и продиктовал книгу "Дух, душа, тело", в которой заглянул в сегодняшний и завтрашний день самопознания. Это мужество и стоицизм позволили Архиепископу Луке, получив Сталинскую премию и будучи приглашенным к "вождю народов", на его вопрос: "Профессор, вы часто вскрываете человеческое тело. Вы там не видели, где находится его душа?" мог ответить: "Часто я в человеческом теле не видел и совести". Здесь не место рассказывать о пастырском служении Валентина Феликсовича. Да и не мое это дело, хотя я не раз видел его не только в дружеском собеседовании, но и в роли архиепископа, слышал его неотразимые по вдохновенности и аргументированности проповеди, и ощущал его благотворное влияние на всех, кто был окормляем им в храме и вне его. Для меня он был и навсегда остался Валентином Феликсовичем: мудрым, добрым, смелым и сердечным человеком. Не только и не просто "понимателем", но прежде всего "помогателем", тем самым "отцом", патером в самом точном и полном значении этого слова. И всегда он был недосягаемым примером верности избранному пути. Я знал, что он принял монашеский постриг, когда ему исполнилось 46 лет. Встретившись с ним, 70-летним, и ощущая в полную меру его сохранившееся здоровье и силу, нетрудно было предположить, каков он был четверть века назад. Отец, встречавшийся с ним в те годы в Ташкенте, кое-что рассказывал мне о его редкой выносливости и энергии. И это не помешало ему - после смерти жены - поступить именно так, как он поступил, отказавшись навсегда от многих радостей жизни. И, насколько знаю, остаться верным своему решению. Может быть именно потому то, что он говорил, было менее всего словами, но - звучащим смыслом. Они были обеспечены чистым золотом его жизненного примера, и их полная конвертированность гарантировалась его именем. И все им сказанное обретало особое, едва ли не провиденциальное значение, безотносительно к тому, в какой мере оно реально понималось и принималось. Архиепископ Лука был первым священником в моей жизни. И то, что я услышал от него, и сам его облик сделали то, что не смог разрушить никто и никогда - создали в моем представлении образ священника как источника истины, добра и красоты. Наверное, поэтому, встретившись через много лет с отцом Александром Менем, я как бы узнал его, еще не зная. И сегодня, вспоминая о тех давних встречах, я, неправославный человек, так и не сумевший за свою длинную жизнь определить в слове свою веру, возношу свою благодарственную молитву Богу, одарившему меня радостью общения с Архиепископом Лукой и с отцом Александром.
ПАПЮС
Ольга Дмитриевна говорила медленно и как бы слегка напевая. При этом она раскачивалась из стороны в сторону. То, что она произносила было до такой степени непонятно мне тогдашнему, что я с трудом воспринимал ее речь. И все-таки, попробую что-то воспроизвести. - ...Ты снова становишься объемным, принимаешь видимый облик... Ответь мне только - слышишь ли ты меня, или мой голос растворяется на плоскости твоего бессмертного лица... Услышь меня, и пойми, что не случайно я покинула твою школу, и твое пространство... Оно осталось навсегда замкнутым во мне... Только безвыходные обстоятельства вынудили меня вернуться в Россию, и стать тем, чем я стала... Но твои уроки, и все твое дело сохранились в моей душе и в моей памяти... Я все помню; помню как пришла к тебе, поднявшись в твою мансарду... Помню как ты меня встретил, и еще не зная совсем, сказал - кто я, откуда и с какой целью оказалась в твоей лаборатории... Помню и первое наше занятие, как и все последующие, как ты постепенно и осторожно вводил меня в магический круг возможностей, открывая чудодейственные силы во мне и в мире... Помню, как ты еле заметным жестом извлек из воздуха некое жидкое существо непонятного вида: оно колыхалось, как желе, и было полупрозрачно... Помню и первые шаги моего научения, когда ты приказывал мне снять с себя груз мертвых сил, и я вдруг обнаружила, что не имею веса, и чуть оттолкнувшись от пола, взлетела к люстре и закричала от страха, а ты только засмеялся и сказал, чтобы я была осторожна, чтобы не вылететь в окно... Помню, как мы обучались быть проницаемыми, и как дети впрыгивали друг в друга, пролетая насквозь; ты же предупреждал, чтобы мы быстрее разделились, иначе есть опасность так перемешать наши тела, что их невозможно будет обособить... Помню первый урок превращений, когда ты демонстрировал “метаморфозы бытия”, как ты называл это действо, и когда чашка, стоящая на столе, медленно превращалась в скульптуру, потом - в картину, потом - в воздушный шарик, который взлетал под потолок... Помню, как ты обучал нас регенерации органов - самое жестокое, что я увидела за месяцы учебы у тебя, когда ты острым ножом отсекал палец, и выращивал его, а я уже совсем переставала различать границы яви и сна... Помню, как ты учил нас управлять событиями - и своей, и любой другой жизни; как однажды ты спросил нас - что мы хотим, чтобы произошло в Париже. Мы стали говорить, что кому приходит в голову, и тогда ты произнес - ладно, я сам для начала что-нибудь предложу, и сказал, хотите, чтобы обвалился балкон в доме напротив - и не успел он произнести эту фразу, как он обрушился с треском и грохотом... Помню - и это последнее, что я помню - как ты однажды, придя на занятие, сказал, что будешь заниматься с каждым из нас отдельно. С этими словами я увидела, как ты стал раздваиваться, тебя стало столько, сколько было нас - а нас было восемь человек, и ты повел каждого из нас в отдельную комнату, где мы обучались проникновению во внутренние органы человека... Это было мое последнее занятие, и все они навсегда сохранились во мне... Я шевельнулся, дверь заскрипела, Ольга Дмитриевна встала с колен, поцеловала портрет на стене, медленно повернулась и вошла в столовую, как бы совершенно забыв то, что только что она переживала. Воспоминание бывшего заключенного ОТЕЦ ПАВЕЛ
Как известно, после двухгодичного пребывания на Дальнем Востоке, отца Павла перевели в самое страшное узилище - на Соловки. Здесь с ним и познакомился тот, кто рассказал мне эту историю. Они вместе работали, разрабатывая методы получения йода из водорослей. Собственно, разрабатывал отец Павел, а рассказчик был у него, вместе с другими, помощником и, как сейчас говорят, техническим исполнителем. Гениальный мозг отца Павла не знающий никаких препятствий и разрешающий любые трудности, блестяще выполнил поставленную задачу и в таком, малоприспособленном для умственной деятельности месте. Хотя в своих письмах к родным он постоянно жалуется на свой оскудевающий мозг, но сами письма, которые сохранились целиком и сейчас изданы, свидетельствуют об обратном. Но суть истории заключается в совершенно ином. Как и всех заключенных, отца Павла поместили в камеру, но не в многолюдную, а поначалу - вдвоем, вместе со своим помощником, чтобы они могли разрабатывать то, что им было приказано. Неизвестно почему, охрана на следующий же день как-то заметила отца Павла, выделив его из всех заключенных. А еще через день они вошли в его камеру и попросили, чтобы он их простил. Они стояли на коленях и пытались поцеловать ему руку. За этим не слишком понятным делом их застал старший надзиратель. Но вместо того, чтобы доложить “ по инстанциям “, он сам вдруг стал просить, чтобы отец Павел снял с него грехи. На следующий день они пришли уже втроем, прося его, чтобы он окрестил их. Естественно, он сказал, что в этих условиях это невозможно, и он не хочет вредить им. Но они настаивали до тех пор, пока он не вынужден был приобщить их к церкви. Начальство заметило некоторую странность в поведении охраны и сменила их. Со следующими стражами случилось тоже самое. Тогда оно стало менять их каждый день. И это не спасло их от непонятного влияния отца Павла, тем более необъяснимого, что он внешне никак не воздействовал на охрану: ничего не говорил и, естественно, никак не склонял их к принятию Святого Крещения. Тем временем влияние отца Павла продолжало расширяться, захватывая все более и более высокие круги работников Соловецкого лагеря. Неоднократно они обращались к нему с предложениями, одно другого заманчивее: улучшить питание, облегчить режим, уменьшить количество и сложность порученных ему работ, наконец, перевести его в более приемлемую камеру. Когда он отказался от всех предложений - а отказывался он самым простым способом, говоря: - А другие как?.. - ему был предложен план бегства из лагеря. Насколько известно, это за все годы его существования не удавалось никому. Здесь же ему гарантировали успех, да еще с обещанием переправить в Финляндию или Норвегию. Он отказался и от этого предложения. О странной истории с заключенным стало известно в Архангельске и Ленинграде. Но никто ничего не мог поделать - сколько не заменяли охрану на всех уровнях, с новыми работниками происходило то же самое. Доложили на “ самый верх ”. И тогда последовало распоряжение - избавить Соловки от столь опасного заключенного, что и было немедленно осуществлено. Но и это не остановило загадочного процесса общего распада порядка. И вскоре Соловки прекратили свое существование как место заключения.
16 лет Через год после начала войны юношеский максимализм привел меня в школу юнг. Она располагалась в Баку, куда я и отправился, почти целый год прокантовавшись в Куйбышеве. Нас погрузили на судно и отправили вниз по Волге. Когда наш “Тельман” отчаливал от изрядно накренившейся пристани, а мы, глотая слезы, нестройно завывали “Прощай, любимый город”, мы и представить себе не могли, что нас ожидало и в пути, и в самом ученье. С первой неприятностью мы встретились, подплывая к Сталинграду. Помню, как я бегал по боту со своими клешами в поисках утюга, как кто-то крикнул: - Мина по правому борту! Все рванули на правый борт и увидели метрах в двадцати три характерных рожка плавающей мины. Как зачарованные, мы не отрывали глаз от нее - а она медленно, но неуклонно приближалась. Когда осталось уже метров пять до нее, первый помощник капитана, предварительно разогнав всех нас на бак, расстрелял ее из нагана. Взрывом разворотило бок “Тельмана”, который стал терять плавучесть и вынужден был выброситься на берег, но все мы остались целы и невредимы, хотя и не обошлось без потерь: у меня сорвало с головы бескозырку и сдуло гюйс (воротник), у моего брата - унесло клеши и т.п. Когда мы добрались до берега, неприятности продолжались. Пожалуй, самой опасной была возможность подорваться на микроминах, замаскированных под игрушки, авторучки, блокноты, цветные коробки, повсюду разбросанных по городу. Соблазн был большой: все выглядело непривычно для нас, ярко и привлекательно. Двое моих соучеников жестоко поплатились за свое любопытство. На моих глазах одному оторвало кисти рук, а другой был убит наповал. Только после этого нас собрали и строго-настрого запретили прикасаться к чему-либо до тех пор, пока это “что-то” не будет осмотрено саперами. Но на этом наши злоключения не кончились. Как оказалось, нас выгрузили в Сталинграде для совершенно изуверской работы: под городом в балках были горы незахороненных еще с зимы трупов и нам предстояло загружать их в большие ящики. Даже сейчас, когда прошло более пятидесяти лет, мне трудно описать - что мы увидели и, вообще, как шла наша работа. Если я и упоминаю о ней, то только потому, что в результате двухнедельных трудов несколько кандидатов в юнги заразились непонятными болезнями - возможно, от трупного яда - и их срочно госпитализировали. Какова их дальнейшая судьба - не знаю. А нам после этого выдали брезентовые перчатки...
16 лет А дальше началось ученье, ставшее, при всей его краткости, совершенно отдельным и ни на что не похожим эпизодом жизни. Как я уже упоминал, в нем случился не один “поворот”, могущий привести Бог знает к чему. И на суше и на море все постоянно складывалось так, что всякого рода опасности буквально преследовали нас. Не уверен, что все это было результатом заранее обдуманных намерений. Но кое-что несомненно планировалось, вплоть до возможных потерь. И этой “потерей” мог быть и я. То, что так не случилось, можно считать скорее недоразумением, чем удачей. Вот одна из таких историй. В программу нашего обучения входило надводное и подводное плаванье. Первое заключалось в том, что нас погрузили на грузопассажирское судно “Шаумян”, которое совершило большой круг по Каспию: сначала вдоль иранского берега, потом - Красноводск, далее - на север к устью Волги, затем - мимо Дербента назад, в Баку. На судне мы обучались матросскому ремеслу во всех возможных его ипостасях, но чаще всего использовались как примитивная рабсила. Было жаркое континентальное лето и мы спали обычно на верхней палубе, подстелив пробковые маты. Не скажу, что это было очень удобно, но намотавшись за день, мы замертво сваливались на это наше ложе и разбудить нас не мог даже изрядный шторм, застигнувший нас под Дербентом. В комплекс нашего морского обучения входила и “процедура”, называвшаяся “человек за бортом”. Заключалась она в следующем. Ночью, километрах в пятидесяти от берега, к кому-либо из спящих юнг подходили боцман и два матроса, будили его и когда убеждались, что он проснулся, брали его за руки и за ноги, раскачивали как следует и выбрасывали за борт. После этого по судну объявлялась команда “Человек за бортом!”, оно останавливалось, зажигался прожектор, начиная шарить по черной воде в поисках выброшенного. Затем спускали две шлюпки и мы тоже рыскали по морю с той же целью. Обычно в конце концов полузатонувшего юнгу находили, откачивали из него воду, объявлялся отбой, все снова засыпали, а судно далее отправлялось в путь Но так бывало далеко не всегда. По крайней мере, в этом рейсе, длившемся около трех недель, мы недосчитались двоих моих соучеников. Их не удалось найти в непроглядной тьме и судно ушло, оставив их в черной воде. Дважды я подвергался подобной экзекуции. Трудно подыскать приемлемые слова для выражения испытываемых при этом ощущений. У меня - да, полагаю, и не только у меня - они еще осложнялись тем, что я плохо плавал. В это невозможно поверить, но это было именно так: никого из нас не спрашивали, умеем ли мы плавать. Возможно, что утонувшими оказались именно те, кто в свое время не научился этому нехитрому искусству. Но могло быть и другое. Удар от падения в воду с изрядной высоты был весьма чувствителен. У меня от одного такого полета вся спина стала синей. Нетрудно предположить, что в результате падения можно было и потерять сознание. Я уже не говорю о шоковом эффекте непреодолимого страха пребывания в холодной воде в состоянии беспомощности и полной невозможности сделать так, чтобы тебя заметили... Наверное, нужно было готовить будущих моряков к суровым условиям службы, тем более что шла непомерная по своей жестокости война. Конечно, нужно было. Все это так. И все же... 17 лет Второй круг по Каспийскому морю я совершил на подводной лодке. Маршрут ее был таким же, как на надводном судне, с той лишь разницей, что он происходил в обратном направлении. Из Баку лодка пошла на юг, потом - на восток, вдоль иранского берега. Не знаю, по какой причине мы остановились в Бендер-Шахе. Нас выпустили на берег в увольнительную до середины дня. Впервые увидев “заграницу”, хотя бы и в таком варианте, мы слегка ошалели. Хотя нам было приказано кантоваться около порта, не выходя за границы квартала, где жили советские сотрудники, но увидев на горизонте сверкавшую на солнце летнюю резиденцию шахиншаха Ирана, мы с приятелем как завороженные пошли в ее сторону, забыв обо всем и, в том числе, о строгом запрете перехода демаркационной линии, отделявшей “советскую” от “несоветской” части Бендер-Шаха. Наш путь лежал через густейшие кизиловые заросли за городом и в конце концов случилось то, чего и следовало ожидать. Мы заблудились. Почти полгода мы провели в Иране, пережили столько приключений, что их хватило бы на целую длинную жизнь. Может быть, когда-нибудь я отважусь на их описание. Сейчас же вспомяну только об одном случае, который, мне кажется, уместен в этом разделе. Случилось так, что, угнетаемые бесконечным голодом, окончательно измотавшим нас, мы рискнули стащить на базаре в Пехлеви насколько лепешек. Сделать это было очень легко: еда лежала в гигантских плетеных корзинах, рядом находилась маленькая корзиночка для денег и никого из продавцов не было видно. А вокруг передвигались взад и вперед толпы нищих, одетых в рвань людей. Сказано - сделано. Мы схватили по паре лепешек, сунули их за пазуху и побежали, полагая, что наших действий никто не заметил. Через несколько минут мы убедились, что глубоко заблуждались. Нас схватили, тут же передали старому и толстому иранцу редкой, как нам показалось, злобности. Он ощупал нас и передал кому-то другому; как мы поняли, он продал нас. Дальше началась длинная эпопея: мы переходили из рук в руки. Ничего не умея, не приспособленные ни к климату, ни к пище, ни к работе (в основном на чайных плантациях) мы не представляли никакой ценности, и после короткого знакомства нас немедленно перепродавали. В конце концов мы попали к хозяину, использовавшему нас для копания каких-то канав или траншей неясного назначения. Нас почти не кормили, а работать заставляли так, как (мы только об этом читали) при капитализме. Тем временем мы узнали, что где-то неподалеку проходит английская трасса, по которой шла помощь в Россию. Хотя документы свои мы давно потеряли, но не теряли надежды вырваться из бессмысленного рабства. Мы были молоды, присутствие духа оставалось с нами, и каждый день искали способ сбежать от каторжного труда и вернуться на Родину. Не знаю как, но хозяин почувствовал наши намерения, и каждую ночь стал запирать нас и вообще перестал кормить, а последние сутки и поить, что в той жаре было заведомо смертоубийственно. Мой приятель, изнемогая от жажды, изловчился пить собственную мочу, что, кстати, тоже оказалось проблемой: никаких сосудов не было, а в горстях помещалось ее слишком мало. Ему явно не хватало жидкости. Увидев, что я пренебрегаю своей, он буквально терроризировал меня: - Ты все равно подохнешь, хоть я спасусь. Ну что тебе, жалко?.. Что и произошло бы на следующий день, если бы не какой-то патруль, который что-то проверял. Услышав русскую речь за стеной, мы из последних сил стали кричать, пытаясь обратить на себя внимание... Не прошло и двух недель, как нас, избитых и униженных, передали в комендатуру Бендер-Шаха, а еще через неделю мы давали подробные объяснения в Бакинской госбезопасности... А в школу юнг я уже не вернулся, хотя и пытался несколько раз. Моя морская карьера навсегда закончилась. 17 лет Только всеобщей безалаберностью, да еще сверхъестественной удачей можно было бы объяснить мое довольно быстрое освобождение из Бакинского узилища и практическое возвращение всех прав. Мне выдали командировочное свидетельство, продаттестат, застиранную матросскую одежду без гюйса (как знак разжалования) и билет до Москвы. Вещей у меня не было, если не считать чудом сохранившейся серебряной монеты достоинством в один риал, с которой и началось мое нумизматическое увлечение. Налегке, с торбой, в которой находились скудные пожитки, полученные в продпункте комендатуры, я отправился на вокзал в расчете на немедленное отбытие из Баку. Но оказалось, что это была неосуществимая задача. Поезда - были, но они были переполнены настолько, что надеяться на минимально приемлемые условия было по меньшей мере наивно. Безуспешно проболтавшись двое суток на вокзале среди толпы, атакующей каждый отходящий поезд, я вместе с приятелем-беспризорным, которого я обрел за время своего вокзального шатания, буквально по головам влез на вагон, где, на крыше, и обосновался на добрую неделю пути. Путешествие на крыше изрядно трясущегося вагона - не из самых больших удовольствий. И дело не в недостатке комфорта. Существовало много бытовых проблем, которые на первых порах было трудно разрешить. Первая и простейшая из них - ассенизационная, или, попросту говоря, проблема гальюна. В конце концов мы решили ее самым элементарным способом. Другая, гораздо более серьезная - проблема сна. Учитывая, что вагон изрядно трясся, ничего не стоило слететь и оказаться на вихре откоса. Мы вышли из положения так: привязывали себя за вентиляционную трубу, а спали - по очереди. Большой опасностью были виадуки, которых особенно много было почему-то на Северном Кавказе. Подъезжая к нему, нужно было непременно ложиться, распластавшись по крыше, иначе можно было потерять голову, как это и случилось с моим спутником, который зазевался и получил смертельный удар бетонной балкой виадука. Я не мог предупредить его, потому что в это время спал, прижавшись лицом к нагретому за день железу крыши... Но, пожалуй, самый большой ужас вызывали бойцы охранения поезда, которые каждый день стреляли по крышам, стремясь согнать с нее безбилетных пассажиров. Здесь рассчитывать было не на что, только на случай. Хорошо еще, если они палили на остановках - мы как-то приспособились соскакивать и быстро запрыгивать обратно, как только слышали характерный лязг начала движения. Гораздо хуже было, когда они, забравшись на первый вагон, стреляли вдоль состава. Сколько раз я видел, как после очередного выстрела кто-то с криком слетал с крыши. А я вжимался в свою вентиляционную трубу и, сцепив зубы, почему-то размеренно считал про себя: “Раз, два, три, четыре, пять...” Где-то после Ростова мне удалось поменять место дорожного жительства. С большим трудом я проник в тамбур и с тех пор почувствовал себя довольным и почти счастливым. Еще через день я пробился внутрь вагона, а последние четыре или пять дней роскошествовал на третьей полке, на которой и доехал до Москвы. 26 лет Это был один из первых моих лекторских опытов. До того все выступления ограничивались учебными аудиториями. А тут мне предложили что-то рассказать о музыке совершенно незнакомым людям. Да еще в необычном месте, где, как можно было предположить, никто не разговаривал на такие темы. Это сейчас, когда любую колонию одолевают священники всех конфессий, заключенные привыкли к этому и, вероятно, выработали прочный иммунитет. А вот тогда... Итак, я принял предложение, и в один прекрасный день меня посадили в “воронок” (как сказал зам. начальника колонии по воспитательной работе: “Ты должен нутром почувствовать тех, с кем будешь разговаривать...”) и мы поехали. Не буду описывать, как меня доставили в грязный заплеванный сарай, предназначавшийся для воспитательных процедур. Меня вывели на сцену, над которой висел кумачовый плакат: “В труде обретешь свободу”, посадили на шатающийся стул. Я глянул в зал и увидел человек пятьдесят с совершенно одинаковыми лицами. Я подумал, что что-то случилось с моим зрением. Но чем больше я вглядывался в сидящих на длинных скамьях, тем больше недоумевал. Тем временем сопровождающий, небрежно крикнул: - Я вам музыку привел. Он вам так сбацает, что вы забудете мать родную. И ушел, оставив меня наедине с этой орущей, свистящей и смеющейся оравой людей, с которыми я совершенно не знал, что делать. Оглянувшись, я увидел у края сцены пианино. Подошел к нему, открыл, и стоя стал, неожиданно для себя самого, играть “Патетическую сонату” Бетховена. На мгновение люди умолкли - наверное, от неожиданности. Потом - завопили с новой силой. Несколько человек запрыгнули на сцену, схватили меня за руки. - Ты давай сбацай “Мурку”! Я - сыграл ее. Посыпались заказы. По мере сил я выполнял их. Наконец, мне это надоело и я попытался что-то сказать о музыке. Вроде бы начали слушать не перебивая и не вставляя своих реплик. Поговорил я минут пять, но когда подошел к сюжету о музыке как том единственном, чего нельзя лишить человека, и в чем он всегда и везде свободен, кто-то выкрикнул: - Ну ты и мудозвон! Другие - бросились на крикнувшего. Началась и быстро разгорелась кровавая драка, которая прекратилась, да и то с трудом, только после того, как вошли охранники и не глядя выстрелили в копошащийся клубок тел. Заключенные расцепились и нехотя вновь уселись на скамьях. Троих лежащих на полу унесли. И вновь продолжилось мое не слишком понятное общение с ними. Слушатели обступили меня, требуя “сбацать” то одно, то другое на пианино, в котором половина клавиш отсутствовала, а вторая - не издавала никаких звуков. Такое музицирование могло бы продолжаться неопределенно долго, но пришел мой сопровождающий, чтобы вывести меня из зоны. Тут-то все и началось. Заключенные схватили меня, сунули в толпу и сказали, что “не отдадут”. Началась нелепая перебранка, кончившаяся тем, что трое заключенных подхватили меня и определили в какую-то подсобку за сценой. На все требования охраны они отвечали, что скорее убьют меня, чем отдадут. Администрация лагеря, не желая обострять ситуацию, ушла, а я просидел взаперти до ночи, когда ко мне прокрались двое и попросили поиграть чего-нибудь. Не успел я извлечь первый звук, как возникла охрана, которая бросилась избивать всех троих - вместе со мной. Не понимаю почему, но и в БУРе я оказался вместе с ними. Однако вскоре за мной пришли, вывели за ограду, извинились, сказав, что “по горло сыты таким опытом культурного воспитания” и почему-то на грузовике отвезли домой. А я, трясясь на разбитой дороге, думал: что же за урок я получил, и зачем я, собственно, нужен был тем людям. С тех пор прошло много лет, и сегодня я с уверенностью могу сказать себе, что за всю мою длинную жизнь не встречался более с такой потребностью во мне, чем бы она ни вызывалась... 35 лет С большой неохотой вспоминаю я о пережитых страхах. И не столько потому, что не хочу возвращать забытые отрицательные эмоции, сколько от убеждения в неслучайности выпавших испытаний как однократности, не нуждающейся в реминисценциях. Случай, который я хочу рассказать - из их числа. И если я все-таки пробую его описать - то, скорее всего, - из гордости за свое искусство, иногда могущее делать чудеса, даже в самых неподходящих к тому условиях. История эта, коротко говоря, такова. Дело было в Алма-Ате, где я жил и работал в те годы (1961). Поселился я в частном доме на окраине города, куда добирался двумя трамваями и еще изрядный кус дороги пешком. Однажды, в снежном и холодном январе (было за -20 градусов) я возвращался после очередной встречи с либреттистом - я тогда затевал некое музыкальное действо по сюжету из Рамайяны и все вечера проводил у завлита оперного театра, который взялся подсобить мне. Выйдя на конечной остановке трамвая, я пошел вдоль улицы между двумя рядами деревьев. Черные тени отчетливо отпечатывались на сверкающем снегу. Впереди ярко светился серебряный диск луны. Я был благодушен и доволен: либретто - получалось, в консерватории все шло благополучно, премьера спектакля, к которому я писал музыку, успешно прошла, принеся мне некоторую известность в художественных кругах казахской столицы. Словом, моя аккредитация, похоже, состоялась, и были причины чувствовать себя минимально удовлетворенным. Напевая какую-то неопределенную мелодию, я благодушно продвигался к дому. Вдруг я почувствовал, как кто-то крепко взял меня за обе руки и услышал гортанный голос: - Золото есть? - Какое еще золото? Я никогда не носил ничего золотого и, вообще, никаких драгоценностей, если не считать серебряных запонок, подаренных мне школьной соученицей в шестом классе, поэтому отвечал спокойно и уверенно. Державшие меня за руки повернули к себе лицом - и я увидел заросшие физиономии, озлобленные и отчаянные. Их было трое. Один явно командовал, двое других - беспрекословно подчинялись. Поговорив о чем-то на непонятном мне языке, они силой подтащили меня к дереву и крепко привязали руки и ноги так, что я как бы обхватил ствол руками, стоя к нему спиной. Мой портфель они поставили рядом. И ушли со словами: - Согреешься и вспомнишь, что у тебя есть и где. Я остался один на совершенно пустынной улице, где в это время не могло быть никаких прохожих. Шел второй час ночи. На мой вопрос - когда они вернутся, они противно захихикали, ничего не ответив. Помахали рукой и исчезли за поворотом. Не буду описывать своих ощущений. Их легко представить себе. Попытавшись освободить руки и убедившись, что это неосуществимо, я несколько раз крикнул, надеясь, что меня могут услышать в домиках невдалеке. Но все крепко спали; не зажглось ни одно окно. Оставалось тихо замерзать или надеяться на чудо. Услышав скрип шагов на снегу, я не знал еще - чудо ли это. Звуки доносились из-за спины. Я не мог видеть - кто это. Но тут я услышал гортанную речь: - Кто это там прирос к дереву?... Сипло, еле слышно, я почти прошептал, что какие-то люди меня прикрепили к стволу и т.д. - А, это Арслан... Мы тебя заберем себе. Они отвязали меня и я упал. Ноги не держали. Тогда они - их было двое - налетели на меня и стали буквально топтать. Странно, что после такой процедуры я смог подняться и, пошатываясь, пойти с ними. Мне уже было все равно - куда идти. Один из них взял мой портфель и они поволокли меня “под ручки”. Вскоре мы пришли к небольшому саманному дому во дворе. Вошли. В пустой комнате ничего не было, кроме длинной скамьи и ящика вместо стола. На нем стояла свеча и слабо освещала грязные, обшарпанные стены, большую бутыль и начатую буханку хлеба. Обшарили меня. Ничего ценного для себя не найдя, отшвырнули в угол, сели вокруг ящика, выпили из консервных банок, закусили хлебом, и запели. Сквозь мятый хрип, неясный, непонятный язык, переполненный рваными согласными звуками, просвечивало - не преувеличиваю, - гениальное трехголосие: один тянул бурдон - длинный звук, лишь изредка сползая с него и затем возвращаясь; другой выпевал живую, узорчатую мелодию орнаментального типа; и третий интонировал редкой выразительности и сосредоточенной красоты напев. Им явно нравилось петь. Их лица, жесткие, грубые и как бы туповатые, размягчились, расслабились, глаза загорелись теплым огнем. А песня все длилась и длилась, и ей не было видно конца. Онемевшими и горящими пальцами, с ломотой и болью я еле открыл портфель, достал нотную тетрадь - это была работа студента, которую следовало проверить - и неожиданно для себя стал записывать их песню. Сначала они никак не реагировали на то, что я делал, потом прекратили петь и тот, кого называли Шамилем, вырвал у меня из рук тетрадь и карандаш. - Ах, ты сука музыкантская, что, стучишь на нас? Как мог, я объяснил, чем занимался, заодно сказав, что и песня у них - прекрасная, и поют они - замечательно, что было совершенной правдой. - Как это - записываешь песню? Ты лепишь темнуху. С этими словами они слегка поколотили меня, снова загнали в угол и вернулись к прерванной песне. А я - с разбитой и распухшей физиономией - к записи. Кровь капала из рассеченной губы, я скрипел зубами и с упрямством маньяка продолжал вырисовывать песню на нотной тетради, изрядно заляпанной кровью. Они снова прервались, оборвав песню. - Продолжаешь, сука! И тут меня осенило. - Говорю вам, что записываю ваше пение. Можете проверить. И я по нотам пропел партию каждого из этого трио. Их удивлению не было границ. А Шамиль подошел ко мне и, глядя безумно-воспаленными глазами, повелительно сказал: - Где же песня-то? Не вижу. У тебя одни закорючки, вроде блох. Что ты лепишь! - Эти закорючки и есть то, что вы пели. - Что, сам придумал, что ли? - Нет, это давно придумали, задолго до меня. - Тогда давай-ка, научи меня, да побыстрей. А пока - поди, бухни. И мне налили мутной зеленоватой жидкости, пахнущей лаком для ногтей, гуталином и отхожим местом. Отказываться было невозможно, и я, зажмурясь, отхлебнул этого пойла. - Давай, закуси, - и мне протянули рваный кусок хлеба. - А теперь давай-ка, учи, да не волынь. Надо было видеть, как этот Шамиль руками, не привыкшими к карандашу, ломая стержень и царапая бумагу, писал кругляши нот, а я, в привычной своей роли наставника, покрикивал на него. Но это длилось недолго. Терпенье у моего ученика быстро лопнуло, он вернулся к своим сотоварищам, и они затянули новую песню, за ней - следующую. И так - до рассвета. А утром - ясным, солнечным, они отвели меня домой, дав с собой бутыль той же зеленоватой жидкости и навьючив на голову медвежью шапку. - Чтобы башка не отмерзла. А то чем кумекать будешь над своей музыкой? Когда мы уже подходили к моему жилью, Шамиль сказал: - Гуляют здесь наши абреки. Если кто подкатит, скажешь: ты от Шамиля. Довели меня прямо до двери. И ушли. Больше я их никогда не видел. Не пришлось и воспользоваться охранным паролем. Впрочем, пришла весна, потом - лето, и я навсегда расстался с Алма-Атой. Но долго еще помнил, как замерзал у дерева, как пил зеленоватую жидкость и учил нотной грамоте бандитов, и их песни, на самом деле редкостной красоты и гармоничности. И вспоминал, как умилившись, несмотря на бредовость ситуации, их пению, не выдержал и спросил: “Как вы, такие талантливые, можете промышлять по ночам?”, на что услышал: - Понимаешь, а за что нас сюда сослали с Кавказа? Чем мы, чеченцы, были виноваты? Кто на нас бочку катил? И, понимаешь - скучно нам... Скучно... В наследство от этой встречи я получил отмороженные пальцы рук и ног и напев, который использовал в чеченской пьесе из фортепианной сюиты “Путешествие по нашей Родине”. А как мне хотелось иногда, чтобы, скажем, приехав через четверть века в Алма-Ату, на конференцию по музыкальному эпосу, услышать от своих казахстанских коллег, что некий Шамиль с хорошим голосом требовал, чтобы его приняли в консерваторию для освоения нотной грамоты... Вот тогда этот сюжет бы вполне закруглился, обретая стройность и законченность. Но на это не приходилось надеяться. Так же, как и на то, чтобы еще через десять лет этот же Шамиль помешал другому Шамилю совершить свою злодейскую акцию в Буденновске... Но и этого не случилось. По крайней мере я ничего не знаю о такой попытке. Да ее и не могло быть. А я остался наедине со своим воспоминанием, которое так никогда и не “закруглилось”. Навсегда непонятным осталось одно: зачем они отвязали меня от дерева и поволокли с собой. И кто бы они ни были, им я обязан жизнью. С тех пор прошло тридцать четыре года, а я все еще не сказал им своего “спасибо”. И, похоже, никогда уже этого не сделаю.
Интерес к оружию, возникший у меня едва ли не в младенчестве, подогреваемый предвоенным ажиотажем, висевшим в воздухе конца 30-х, в конце-концов доразвился до подлинной страсти в годы войны. Мне уже приходилось вспоминать о взрывчатом веществе, которое, как мне казалось, я изобрел. Были и другие попытки этого рода, более или менее успешные; за одну из них я даже получил авторское свидетельство и высокую благодарность. Но у меня была более “высокая” цель - придумать принципиально новый тип оружия, причем в качестве предварительного условия оно должно было не оставлять следов и быть невидимым и неслышимым. Поначалу я предположил, что в этой роли можно использовать заведомо плохую музыку, которая могла бы “разложить” противника до такой степени, что он потеряет человеческий облик и не сможет быть патриотом и воином. Но перебрав всю доступную мне к тому времени музыку, я не встретил ничего такого, что могло бы выполнять эту роль. Я еще не знал тогда, что у ряда народов музыка используется в качестве оружия. Впрочем, вряд ли эта музыка могла бы поразить современных воинов... А тогда я исходил из того, что музыка “плохого вкуса” отрицательно действует на слушателей. Возможно, что на меня повлияли публикации тех лет - в Германии запрещался, скажем, джаз, как разрушающее искусство, да и у нас много писали об опасном воздействии всякой пошлой музыки... Но никакие “Кирпичики” и “Маруся отравилась” не могли никого подавить, хотя я однажды чуть не поверил в это, когда, экспериментируя на своем соученике, раз двадцать пропел противным голосом известную уличную песню “Я гимназистка шестого класса, пью денатурку заместо кваса”, и он вдруг сорвался и помчался очертя голову, в результате чего попал под трамвай. И все-таки даже этот несчастный случай, по зрелому размышлению, не убедил меня в возможности использования хоть какой-нибудь музыки в качестве оружия. К тому же нерешенной оставалась и проблема “доставки музыки” противнику. Используемые в контрпропаганде мощные громкоговорители слышны были всем, и не было никакой уверенности в том, что “нашим” она повредит меньше, чем “им”. Потом я вычитал у Перельмана, что, подобно световой линзе, может существовать и звуковая, дающая эффект направленного и концентрированного звука. Я пытался приспособить это изобретение, предложив в качестве поражающего средства просто очень громкий звук. Уже давно я заметил, что любой звук выше какого-то уровня громкости сильно действует на психику. Мои опыты подтвердили это наблюдение. Когда я выстрелил из пугача на уроке, то наша учительница физики потеряла сознание. И позднее, когда я со всего размаха хлопал линейкой по доске, то звук, похожий на выстрел, радикально влиял на моих соклассников; так, например, если кто-то что-либо рассказывал в это время, то после удара он уже не мог вернуться к начатому рассказу. К сожалению, мое предложение использовать громкий звук в качестве оружия было отвергнуто. Правда, один из рецензентов моей заявки (в Большом Доме) сказал, почему-то шепотом и криво ухмыляясь, что “возможно, это было бы неплохим средством воздействия на врагов народа - и дешево, и эффективно, и не будут слышны их жалкие оправдания...” Несколько эпизодов, очевидцем и участником которых я был, подтолкнули меня к поиску в другом направлении. Первый из них случился в пригороде Одессы у входа в каменоломню. Войдя в нее, я почувствовал беспричинный страх. Когда я сказал об этом своим спутникам, они посмеялись над моим страхом новичка-спелеолога. Но в этот же день я побывал в нескольких пещерах и никакого страха не испытал. Когда же я вернулся к той - вернулся и страх. Сначала я предположил, что это следствие импринтинга - запечатления первого тревожного ощущения. Однако, вскоре я обнаружил, что некоторые другие пещеры порождают тот же эффект. Кроме того, я вспомнил, что когда в детстве я в Самарской Луке залезал в известную там пещеру братьев Греве, то также меня - и всех, кто туда входил - трясло от страха. Но тогда это ощущение входило в комплекс легенд об этой пещере на Волге - и насколько знаю, никому не приходило в голову задуматься и разобраться в причинах такого воздействия пещеры. Теперь же я профессионально учился музыке, интересовался всеми областями музыкальной науки, в области физики я был и без того грамотен, и вот, взяв резонаторы Гельмгольца, я отправился к уже знакомой пещере... Короче говоря, оказалось, что в ней, неясно почему, возникает звук частотой в 6-7 герц. То есть - инфразвук, причем именно с теми характеристиками, которые вызывают состояние тревоги и страха. А потом был уже описанный мною эпизод, когда от применения шести мощных генераторов инфразвука, настроенных на начальный аккорд “Прометея” (исполнялось именно это сочинение, только двумя октавами ниже) все слушатели (кроме одного) разбежались, балкон, на котором генераторы находились, обвалился, а потолок зала - треснул. Так я увидел реальное действие инфразвука. Ну, а дальше - я, вспомнив свой былой интерес к оружию и, как мне казалось, навсегда утраченной склонности к изобретательству, смонтировал некое устройство, состоявшее из звукового генератора и акустический линзы, которым некоторое время пугал дворовых кошек и собак. После одного не слишком корректного опыта со случайным прохожим, который, почувствовав беспричинный страх, стал оглядываться вокруг, ничего существенного не обнаружил и вдруг с дикими криками “Караул, убивают!” помчался невесть куда - после этого эпизода я засел за заявку, которую вскоре и отправил в ВОИР - Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов. Вместо ответа я получил повестку с просьбой явиться в местный Большой Дом, где вполне корректный молодой человек прочитал мне короткую и энергичную нотацию, из которой следовало, что такого рода бумаги следует посылать только с фельдсвязью, иначе они могут оказаться в чужих руках. А еще через две недели ко мне в консерваторию пришел некто в цивильном платье и, вызвав меня с лекции, отвез меня в уже знакомое мне место, где я претерпел серьезную беседу, смысл которой заключался в том, что мне предложили, как было сказано, “переместиться на некоторое время в специальный район, где занимаются перспективными разработками”. На мой вопрос - когда я смогу вернуться к своей основной профессии, было сказано, что все будет зависеть от обстоятельств, что же касается сочинения музыки, то мне предоставят для этого все необходимое. “Семья, разумеется, тоже будет с вами.” Хотя он и предложил мне подумать, но, пояснил он, “все мы принадлежим Родине и должны служить ей до последнего вздоха”. Мне было 35 с небольшим, до “последнего вздоха” было далеко, и я понял, что своими изобретательскими спазмами попал в ситуацию, из которой неясно, как было выходить. Очевидным было одно - если я попаду в это засекреченное пространство, то останусь в нем надолго, если не навсегда. Надо было что-то придумывать, как-то выпутываться. Я попробовал отмолчаться, наивно полагая, что про меня просто забудут. Но не тут-то было. Не прошло и недели, как за мной приехала черная “Волга” и разговор возобновился, только в более высоком температурном режиме и с обещаниями всяческих “комфортов” и благ. Приехал отец, с которым мы долго обсуждали все плюсы и минусы предполагаемой перемены судьбы. Решив для себя, что не пойду в секретность никакого рода и не откажусь от своего дела, я начал снова и снова перебирать всякие возможности отступления. Из очередных разговоров в Большом Доме я вдруг понял, что их не столько интересует само мое предложение, сколько беспокойство, что оно попадет “туда”. Никакие мои слова не могли быть для них гарантией. И я, конечно, “загремел” бы в секретную лабораторию, и жизнь моя пошла бы иным ходом, если бы отец не познакомил с этой моей “идеей” одного из своих знакомых академиков-физиков. Кажется, это был академик Харитон, работавший тогда на ВПК. Тот высмеял мое предложение и, насколько знаю, сообщил об этом куда и кому следует. Во всяком случае, больше меня никуда не вызывали и ничего не предлагали. И я бы окончательно забыл об этой истории, если бы недавно не прочитал о секретных опытах израильских ученых по созданию оружия массового поражения на основе ультра- и инфразвука... Новый год перед окончанием Большой Войны... В очередной раз я сбежал на фронт зимой 1944/45 года. Вроде бы я мог пойти вполне законным путём. Но, учась в университете, я имел броню, а все попытки «правильным путём» попасть на войну отвергались военкоматом с гордыми словами: «Скоро победоносно закончится война. Кто-то же должен будет строить мирную страну?»... Так что, досрочно сдав зимнюю сессию, я «самоходом» рванул на Запад. На фронт. Трудно сказать, на что я рассчитывал; скорее всего на чудо, или, что то же самое, на «русский авось». Не буду описывать все свои приключения, которые пережил на пути: и привычное тогда ограбление, и арест, и преследование шайкой мародёров, и «купанье» при переправе через реку, и почти потеря дороги в лесу, и голод, и холод... Но, тем не менее, я медленно продвигался к фронту. Приближался Новый год, а я всё еще бродил от одной полуразрушенной деревни к другой, ища приюта. Но деревни были пусты, и я двигался дальше. И вот, уже совсем под Новый год - или так мне казалось, потому что я потерял счёт дням - я добрался до какого-то маленького городка (кажется, это была Вязьма, сожжённая почти дотла). Совсем уже замерзая и обессилев от голода, я постучался в слабо светившееся заиндевелое окно. В протаявшем кружке я увидел внимательный глаз и услышал еле слышный голос. Он показался мне доброжелательным. Последним усилием я ввалился в открывшуюся дверь и упал в сенях. Дальше я помню себя уже сидящим за столом; при свете классического военного светильника - коптилки из снарядной гильзы. Я с трудом разглядел скудную пищу, пыхтевший самовар и, почему-то, громадный старинный граммофон с трубой. Хозяин дома ничего не спросил меня: ни кто я, ни - откуда иду, ни - как попал сюда, ни - куда направляюсь. Кроме одного: хочу ли я есть. И ещё - он попросил меня покрутить ручку граммофона, чтобы его «завести». Не знаю почему, невольно я глянул ему на руки и увидел вместо них две культи. Плохо соображая, я завёл граммофон и не глядя поставил первую из пластинок, которые лежали на скамейке небольшой стопкой. И услышал хриплый голос Шаляпина, с надрывом выводившего «Очи чёрные». Я пил обжигающий губы чай из сушёной моркови, почти бессознательно жевал «колбу», - современные люди, наверное, вряд ли знают, что так назывался жмых подсолнечника, после того, как из него извлекли масло, - жевал, и слушал одну пластинку за другой. Все они были плохой сохранности, и нещадно шипели. Но и странно, и, в то же время, совершенно понятно, что их шипение мне совершенно не мешало слушать замечательную музыку, которая доносилась сквозь все граммофонные помехи, и под аккомпанемент воя метели за окном. В тот вечер много что с натугой вылетело из гигантской трубы. Среди тогда звучавшего вспоминаю до-диез минорный вальс Шопена в неясно чьём исполнении, до мажорную прелюдию и фугу из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха, и всякое другое из высокой классики. ... До войны я готовился стать музыкантом - и композитором и исполнителем. Война смешала все мои планы. Всё, что я пережил за эти годы, казалось, навсегда изгнали музыку из моей жизни. И только сейчас, в этой холодной избе, слушая звуки, с натугой выходящие из гигантской витой трубы граммофона, я вдруг почувствовал, что музыка меня не покинула. Что я по прежнему в ней, и она, как и всегда, может принести радость и свет. А мой хозяин пристально смотрел куда-то в сторону. Я же, оттаивая, понемногу насыщаясь, и ошарашенный звуками, о самом существовании которых напрочь забыл, не понимал, что происходит. Куда направлен взор моего «хозяина», и что он видит. И только когда он вдруг встал и сказал: «Знаете - а уже Новый год наступил», - я, наконец, понял: он смотрел на ходики, еле видимые в углу. Двумя культями он поднял кружку с чаем. «Дай Бог нам быть в Новом году живыми», - произнёс он с трудом. И заплакал. Заплакал и я. И чтобы как-то задавить неловкость от своих неожиданных слёз, я снова достал пластинку, с натугой покрутил скрипящую ручку граммофона и услышал знакомую песню «Шумел камыш». Поставил следующую - и зазвучала романтическая экспрессия первой части соль-минорной сороковой симфонии Моцарта. Потом много чего было в моей жизни. И много Новых годов. Но ни один из них не запомнился так, как этот Новый 1945 год. И никогда больше в своей жизни я не слушал музыку так, как в эту холодную и метельную ночь. Навсегда запомнил каждый звук услышанного тогда. И хотя почти всю эту музыку я слышал впоследствии и в Большом зале Ленинградской филармонии, и в зале Гаво в Париже, и в концертном зале Чайковского в Москве, и в «Народном театре» в Праге, и во многих других блестящих залах. И играли там великие музыканты. Но эта музыка, прозвучавшая в ночь на Новый 1945 год, стала для меня навсегда знаком добра, милосердия, красоты... А вместе с тем - и символом веры и надежды на жизнь. ...Тот человек из моего далёкого прошлого, - не знаю, как далее повернулась его судьба, - оказался прав: жизнь продолжается...
В книжке оказалось и несколько слов о моих взаимоотношениях с художником, написанных явно с чужих слов и ни в чем не соответствующих действительности нашего общения. На самом деле - все было иначе. Я только что приехал - по настойчивому приглашению ректора Казанской консерватории - в этот своеобразный татарско-русский город и был поселен в один из классов консерватории. По жизни это было очень удобно - все рядом и невозможно опоздать на занятия, потому что за мной приходят до начала лекции и спрашивают, что нужно. Но и - чревато многими невольными курьезами, такими, как, например, памятный случай, когда, задумавшись, я отправился на лекцию в пижаме и в тапочках на босу ногу... Мой интерес к новому искусству и новым людям быстро обнаружился и привел к тому, что моя комната стала своеобразным клубом, где пересекались художники, писатели, актеры, конструкторы, студенты, молодые врачи, люди без определенных занятий - кто только ни побывал здесь. Однажды завсегдатай комнаты, студент авиаинститута Гена Пронин захлебываясь рассказал о молодом художнике, студенте училища Косте, который “гениально пишет и рисует и, к тому же, любит музыку”. Зная Гену как человека восторженного, но правдивого и что-то понимающего в искусстве, я заинтересовался этим Костей, а когда он сказал, что хотел бы побывать у меня, я с удовольствием его пригласил. Следующим вечером он явился в сопровождении своих друзей - уже упоминавшегося Гены и его соученика Олега Шорникова. Высокий, худой до предела, светло-выгоревший до белизны, он быстро освоился и через несколько дней принес папку с десятком своих беспредметных работ. Были они судорожными, размытыми, странно тусклыми и малоконтрастными, хотя за их как бы нейтральностью стояло нечетко, но сильно выраженное напряжение поиска, когда желание, не находя единственно точного воплощения, смазывает определенность контуров. Было в них и самое существенное - несомненный талант. Никогда не знаешь - в чем он выражается и по каким конкретно признакам распознается. Но когда он есть - его не спутаешь ни с чем. Никакая имитация и никакое ремесленное уменье - вообще-то необходимая вещь в любом деле и, разумеется, в искусстве - не может ни заменить, ни имитировать талант. Это как беременность - если она есть - так есть, а нет - так нет. Глядя на наивные и неустоявшиеся работы Кости, почему-то первое, что приходило в голову, - талантливость их автора. Он очень интересовался новыми тенденциями в музыке. Волей обстоятельств и некоторых усилий у меня кое-что было ему показать и рассказать. Особенно сильно заинтересовала его конкретная музыка; и не только тем, что в ней жизнь представала, так сказать, в своем первородном виде, минуя ее историческую сепарацию, приведшую в конце концов к музыкальным системам и прочему - но, кажется, и из-за того, что для ее сочинения не нужно было иметь “музыкального образования”. А его, как он говорил, интересовало в равной мере сочинение музыки и работа над картинами. Поэтому понятно, почему он так быстро приобщился к нашим цветомузыкальным экспериментам в обществе “Прометей”, которыми мы - и студенты авиаинститута, и студенты консерватории - увлеклись до полного самозабвения. Правда, Костино приобщение было своеобразным: активно интересуясь цветомузыкой, он почти ничего не делал (кроме, пожалуй, стилизованного портрета Скрябина для заставки концерта). И - большой работы, которую он охотно делал вместе со мной - видеопьесу по стихотворению “Мать” Н.Лебедева. Я приведу его, чтобы была понятна художественная ориентация Кости. Двадцать дней и двадцать ночей И чтобы не разбудить ее, Вот такой стих. Странно, что за тридцать лет я не успел забыть его, хотя и никогда не вспоминал - не было повода. Когда я набросал музыку, Костя послушал ее и предложил очень своеобразное решение - непрерывно движущееся беспредметное изображение, выполненное на ленте и проецируемое через эпидиаскоп на экран. Я сначала не согласился с ним и сделал вариант динамической проекции на наш большой экран площадью в 180 м2 - 30 метров в длину и 6 - в высоту. Не помню подробностей визуального ряда сочинения (его видеопартитура, наверное, есть в архиве “Прометея”), кроме одной детали - в верхнем левом углу экрана медленно пульсировала световая точка, которая незаметно исчезала при звучании последней строки стиха. Эта злосчастная точка в свое время вызвала изрядную полемику на тему о ее уместности (отзвук реального мира) или неуместности (примитивный натурализм). Костя брезгливо отверг это решение и сказал: - Я говорил, что будет ерунда... И через несколько дней принес длиннейший (метров 15) рулон с непрерывным, плавно переходящим изображением, которое нужно было синхронно с музыкой проецировать. Что мы и сделали на одном из цветомузыкальных концертов, удивив публику своей экспрессией и органичностью. Рулон этот долго хранился у меня, а потом... Но об этом - немного позднее.
Тогда же в Казань приезжал Д.Д. Помню, как мы придумывали возможность внедрения ему его портрета, что и было осуществлено на вокзале во время его встречи. Д.Д. вышел из вагона, его окружила казанская музыкальная и партийная знать, повела по перрону. В их толпу, почему-то набычившись и наклонив голову, врезался Костя. Его попытались оттащить в сторону, но он успел протянуть ему свернутый в трубку портрет. Д.Д. развернул его, замер, уставившись на свое черно-белое изображение и бесцветным голосом произнес, обращаясь к картине: - Это что, я? Зачем? Все оцепенев, смотрели то на Д.Д., то на картину - и невозможно было не видеть, насколько художник проник в существо портретируемого. А Д.Д. продолжал: - Это что - мне? - Да, вам, - решительно ответил Костя. - Почему вы так меня... - Д.Д. оглянулся по сторонам, - раздели?... Портрет Д.Д. представлял собой погрудный портрет. Он был в пиджаке и галстуке. - Ведь все же... видно... Ничего не ответив, Костя стремительно удалялся в сторону вокзала. Д.Д., свернув портрет в трубку и поджав губы, двинулся с сопровождающими дальше. Виктор Петрович Бобровский рассказывал впоследствии, что Шостакович не хотел вешать его на стену - и по той же самой причине: “Все видно...” Года через два я получил от Д.Д. открытку, где он просил передать “запоздалую благодарность художнику” и выражал недоумение его неизвестностью (он приписал в конце, что знает только Васильева - художника XIX века). А для Кости наступил короткий период портретов композиторов. Не все получались равноценными, но некоторые: Вагнер, Мусоргский, тот же Скрябин, возможно - лучшие их изображения.
Общие интересы продолжали сближать нас. “Прометей” и его пытливые и энергичные участники, жажда Кости узнать новое во всех искусствах, мое восхищение его неистощимым талантом, заражавшим своей неостановимым огнем открытия себя настоящего, беспощадно и бесповоротно отбрасывающего то, что он “прошел”, и что стало чуждо для него. Он стал бывать у меня так часто, что я отдал ему один из ключей от квартиры, чтобы он, приезжая из Васильева, всегда мог зайти отдохнуть и поработать. И я иногда наезжал к нему, познакомился с его матерью и сестрой, с его окружением - жилым и природным, берегом Волги, лесами вокруг, российской широтой, красотой и безалаберностью, безмерной добротой и непроходимым хамством. Общение наше развивалось во все стороны. Я видел в нем иногда как бы старшего сына, которого мне не суждено было иметь в жизни, он во мне - старшего брата. Много времени проводя в консерватории и в “Прометее”, я приходил домой только ночевать, да и то не всегда. И вот, однажды, вернувшись за полночь, я обнаружил, что все стены квартиры завешаны моими портретами разных художников (меня тогда многие писали и рисовали), а все его работы, которые он дарил мне - порваны и лежат большой кучей на полу, кроме рулона “Матери”, который исчез. Я понял, что это дело рук Кости и попытался узнать - что случилось. Один из приятелей попытался объяснить мне, что его оскорбило, что меня писали другие художники, другой - что ему не понравилось, как я вел себя на книжной выставке в Москве (мы ездили туда, он вырвал из нескольких альбомов полюбившиеся ему репродукции, его задержали, а он в милиции назвал себя по фамилии своего друга. Когда его разоблачили - а я не знал всего этого, меня пригласили к следователю и спросили - с кем я был на выставке, я естественно, сказал, как оно было)..., третий - что он теперь полюбил все, связанное с Вагнером с вытекающими отсюда последствиями, четвертый - что он теперь меняет творческую ориентацию и от сюрреализма переходит к русскому реализму... Думаю, что все эти версии были продуктом их доброго отношения к Косте и имели небольшое отношение к действительности. На самом же деле он, попросту говоря, неумеренно нализался, и все то, что в трезвом состоянии как-то относительно мирно сосуществовало в нем: музыка, разная и противоречивая, школы изобразительного искусства, стили живописи и графики, трудная жизнь в двух городах - вернее, в Казани и поселке Васильево, жизненная неприкаянность, утомление от непрерывного елея почитателей и опеки друзей - все это столкнулось в этом хрупком душевном сосуде после основательной попойки, и взорвалось бунтом против всего сущего. Он оказался в моей квартире - и она стала предметом его агрессии... Не один год я не видел его, только слышал, как он, действительно, обратился сначала к сюрреализму, написав несколько работ, феноменальных по изобразительной силе и свежести воображения, потом - к тевтонскому стилю, который я не в состоянии оценить по достоинству и, наконец - к русскому стилю, что почти неизбежно привело его к общению с И. Глазуновым и ему близкой средой. И когда он, начисто забыв об эпизоде годовой давности, принес показывать новые работы в новом стиле, я был удивлен не столько изменением его художественных пристрастий, сколько изменениями в нем самом. Того, решительного и свежего, пытливого и сомневающегося, уже не было. Был слегка отяжелевший, в явном подпитии человек, который нашел себя, и основное, что теперь его беспокоило - выставки, открытки, удовольствие от того, что его “принял” и “понял” И. Глазунов - было нескрываемо, хотя он и ворчал, что тот взял его картины, а открытки все не выходят... Еще он почему-то интересовался - люблю ли я Генри Мура. Вопрос этот приобрел у него облик психоза; сколько раз после этого мы ни встречались, он всегда его задавал. ...Когда же мы общались, его мало что интересовало, кроме того, что делал или будет делать он сам. И это было понятно - почему. Он стал, как ему казалось, самим собой, нашел себя как художник. Но бодрость его была, как бы это точнее сказать, - неполной, за решительностью и размашистостью высвечивалась новая вопросительность. Видя его новым, несколько тяжеловатым, уверенным в том, что он, наконец, вышел “на столбовую дорогу”, думалось - до дороги - еще далеко. И, действительно, за остававшиеся ему немногие годы жизни он, продолжая углубляться в мир национальной культуры, двигался к ее началу, к ее архетипам: героическим, лирическим, вслушивался в русскую былину и народную песню, с тем, чтобы - он говорил об этом при нашей последней встрече в моей петербургской норе - на Коломенской - увидеть мир кристаллически прекрасным и мудрым в своей подлинности; и то, что говорил он, было совершенно лишено “квасного патриотизма”. В нем, скорее, звучало нечто “федоровское”. Не зная работ этого известного русского философа, он своей редкой по силе интуицией как-то прозревал подобный же взгляд на мир, на все сущее. Он почти избегал говорить об искусстве, несмотря на стимулы, исходящие от его давнего приятеля, Олега Шорникова. Написав несколько слов в “книгу для гостей”, они ушли - и я никогда больше не видел ни того, ни другого. Через некоторое время пришли известия о его случайной смерти - об этом говорить трудно, больно, да и не хочется - еще и потому, чтобы не плодить лишних домыслов. Костя Васильев стал известен. Постепенно он пришел к зрителю. Нашлись и его славители, к сожалению, не всегда высокого вкуса и подлинного понимания. Меня бы совершенно не беспокоила их подчеркнуто “русофильская” ориентация в стиле “Молодой гвардии”, если бы они были хотя бы минимально культурны - тогда они могли бы достоверно рассказать об этом, действительно, редком по своей талантливости и самобытности художнике. Верю, что он дождется настоящих ценителей. Пока же в этой роли выступает инженер бронетанковых войск и военный журналист, книжка которого напомнила мне о дружбе с Костей Васильевым. В конце концов неважно - хороша книжка, или - не очень. Она сделала для меня свое дело, и за это я ей признателен. А то, что в ней мало правды и еще меньше понимания... Пусть тот первый бросит камень, кто сам безгрешен. Мир твоей душе, Костя. И прости, если я написал я о тебе что-либо не так. ИЗ КНИГИ "МУЗЫКА ЗА ГОРИЗОНТОМ"
(философские
размышления о музыке) I. СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ Музыка начинается там, где кончаются звуки (молчизм) Любой звук, как и его отсутствие, есть музыка (пофигизм) Только напряженные звуки могут стать музыкой (хаотизм) Строжайшие закономерности делают музыку искусством (логизм) Стиль музыки формируется каждым для себя и по-своему (индивидуализм). Полное исчезновение стилей и направлений в музыке (пустотизм). Любой стиль может превращаться в другой (трансформизм).
II. ФУНКЦИИ МУЗЫКИ Музыка как орудие войны. Музыка как универсальный гармонизатор мира. Музыка как пища. Музыка как защита от всего. Музыка как экран от мира. Музыка как удовлетворение всех потребностей. Музыка как разрешитель всех проблем. Музыка как заместитель социума.
III. ТЕХНОЛОГИИ Звуки живой и косной природы есть источник музыки. Вибрации клеток есть источник музыки. Шумы жизни есть музыка. Физиологические звуки как источник музыки. Птичье пение и есть музыка (Мессиан, Сёке). Вибрации, извлеченные из чего угодно – от гена до ВселеннойIV. ТИПЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
V. ТИПЫ КОМПОЗИТОРОВ Композиторы, сочиняющие всё. Композиторы, не сочиняющие ничего. Композиторы, не знающие, что они композиторы. Люди, назначившие себя композиторами. Люди, купившие себе должность композитора. Люди, уничтоженные как композиторы (Элюбаев, казахский композитор) Композиторы, создающие не музыку. Люди, думающие, что они – композиторы. Так что, по-моему, типы композиторов к концу XXI века останутся такими же, какими они были в начале этого века.
VI. О КОМПОЗИТОРАХ Предвосхитивший сегодня и завтра (Джезуальдо) Познавший границы себя как границы мира (И.-С. Бах) Сотворивший независимый дух (Моцарт) Открывший тайны мелодии (Шопен) Услышавший запредельное в себе (Глинка) Переплавивший болезнь в гармонию (Чайковский) Из рабства извлёкший красоту (Шуберт - работавший слугой)В красоте логики – необходимость (С. Франк)Божественное простодушие родной земли (Григ)Увидевший в себе небо и землю (Скрябин)Сделавший себя гением (Шёнберг)Метаморфоза как основа всего (Стравинский)Воля, ставшая творческой силой (Прокофьев)Две души в одном теле (Шостакович)Услышавший голос Предвечного (Мессиан)
III. ФРАЗЫ, УСЛЫШАННЫЕ ОТ КОМПОЗИТОРОВ Во-первых, она должна быть красивой (Канчели) И он тоже композитор? (Пярт)Большое спасибо: не надо (К. Караев)Ничего не надо объяснять (Сильвестров)Где тонко, там никогда не рвется (Губайдуллина)Лучше думать молча, чем наоборот (Гнесин)Может быть – всё, а надо – почти ничего (Б. Чайковский)Правда в музыке, это – талант (Свиридов).
1. На рис. С. Николаева - анаграммы из слов "Наваждение" и "Одалиска" . Ода (или Дао?) любви, однако! 2. Посвящение А.Г. Юсфину, который написал целую книгу комментариев к своему детскому стихотворению. Анаграмма и гамма судьбы Абрама Юсфина
У таракана усики,
Когда Абраму Григорьевичу Юсфину было два года, ему на
пути попался большой таракан. И,
пораженный этим, маленький Абраша, или Абася, испустил или сотворил
свое удивительное, стоящее в эпиграфе двустишие: Кто усомнится ныне, что двустишие двухлетнего Абаси определило его судьбу? | ||||||||||||||
|
Со всеми вопросами можно обращаться по электронной почте: gvmspb@mail.ru | |
| Последнее обновление: 27.05.11 © "Интервал", 2001 |
Дизайн: ©В.М.Губочкин |
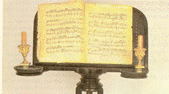

 "Изюминкой" заседаний клуба является чтение
А.Г. Юсфиным своих "воспоминаний и размышлений". В
настоящее время готовятся к печати 7 книг удивительных историй,
которыми произошли в разное время с руководителем клуба, а также
книга философских и иных фантазий на тему стихотворения, сочиненным
А.Г. в возрасте двух лет. Мы постараемся познакомить
посетителей сайта с отрывками из этих книг, раскрывающими еще одну
грань таланта музыковеда и
композитора.
"Изюминкой" заседаний клуба является чтение
А.Г. Юсфиным своих "воспоминаний и размышлений". В
настоящее время готовятся к печати 7 книг удивительных историй,
которыми произошли в разное время с руководителем клуба, а также
книга философских и иных фантазий на тему стихотворения, сочиненным
А.Г. в возрасте двух лет. Мы постараемся познакомить
посетителей сайта с отрывками из этих книг, раскрывающими еще одну
грань таланта музыковеда и
композитора.
 Я никогда
не жил по его системе и не следовал его предписаниям, хотя и знал об их
результативности; наверное, не хватало характера и воли. Поэтому я
искренне завидовал тем, кто мог помочь себе, обращаясь к опыту Порфирия
Корнеевича Иванова. И тем более мне было любопытно видеть и его самого, и
то, как он "практикует".
Я никогда
не жил по его системе и не следовал его предписаниям, хотя и знал об их
результативности; наверное, не хватало характера и воли. Поэтому я
искренне завидовал тем, кто мог помочь себе, обращаясь к опыту Порфирия
Корнеевича Иванова. И тем более мне было любопытно видеть и его самого, и
то, как он "практикует". Не знаю, надо ли вспоминать что-нибудь о нем. Его самого
- да. Почти не зная его, слыша от него лишь несколько фраз, помню все, до
последней малости. И то что слышал имело для меня мало с чем сопоставимое
значение, хотя я и затруднился бы объяснить - почему. Не могу записать им
сказанное мне и для меня - может быть потому, что оно в принципе не
предполагало другого слушателя?
Не знаю, надо ли вспоминать что-нибудь о нем. Его самого
- да. Почти не зная его, слыша от него лишь несколько фраз, помню все, до
последней малости. И то что слышал имело для меня мало с чем сопоставимое
значение, хотя я и затруднился бы объяснить - почему. Не могу записать им
сказанное мне и для меня - может быть потому, что оно в принципе не
предполагало другого слушателя? Вспоминая обстоятельства случайной встречи в поезде и
последующего общения с Архиепископом Лукой - в миру профессором, доктором
медицинских наук В.Ф. Во
Вспоминая обстоятельства случайной встречи в поезде и
последующего общения с Архиепископом Лукой - в миру профессором, доктором
медицинских наук В.Ф. Во Предвижу упрек со стороны читателей: непозволительно ни подслушивать, ни,
тем более, рассказывать об этом. А я не знаю и в самом деле - правомерно
ли описывать то, что я случайно услышал в квартире Ольги Дмитриевны, где я
оказался не по своей вине. Меня попросили передать ей пакет, я передал,
она отвела меня в столовую, где мне следовало подождать ее. После часа
бессмысленного разглядывания безделушек на буфете я уже было
вознамеривался распроститься с ней, как вдруг услышал ее голос.
Прислушавшись я понял, что она обращается не ко мне. Заглянув в
приоткрытую дверь я увидел ее, стоящую на коленях перед портретом
неизвестного мне человека. Около изображения было прикреплено две
свечи.
Предвижу упрек со стороны читателей: непозволительно ни подслушивать, ни,
тем более, рассказывать об этом. А я не знаю и в самом деле - правомерно
ли описывать то, что я случайно услышал в квартире Ольги Дмитриевны, где я
оказался не по своей вине. Меня попросили передать ей пакет, я передал,
она отвела меня в столовую, где мне следовало подождать ее. После часа
бессмысленного разглядывания безделушек на буфете я уже было
вознамеривался распроститься с ней, как вдруг услышал ее голос.
Прислушавшись я понял, что она обращается не ко мне. Заглянув в
приоткрытую дверь я увидел ее, стоящую на коленях перед портретом
неизвестного мне человека. Около изображения было прикреплено две
свечи. Так случилось, что эту историю я услышал от почти что
чудом выжившего узника Соловков и по легкомыслию своему не запомнил его
фамилию, хотя в свое время он называл ее. Этот эпизод из жизни отца Павла
тогда поразил меня своей неординарностью, и редким соответствием тому, что
я уже тогда знал об отце Павле Флоренском. История эта, коротко говоря,
такая.
Так случилось, что эту историю я услышал от почти что
чудом выжившего узника Соловков и по легкомыслию своему не запомнил его
фамилию, хотя в свое время он называл ее. Этот эпизод из жизни отца Павла
тогда поразил меня своей неординарностью, и редким соответствием тому, что
я уже тогда знал об отце Павле Флоренском. История эта, коротко говоря,
такая. Десять
лет назад кто-то прислал мне книжку “Художник Константин Васильев” некоего
Анатолия Доронина. Когда-то я хорошо знал этого художника и мне было
любопытно, что о нем было написано. К сожалению, писание это меня сильно
разочаровало - своим непониманием ни личности К.Васильева, ни, в еще
большей степени, его работ.
Десять
лет назад кто-то прислал мне книжку “Художник Константин Васильев” некоего
Анатолия Доронина. Когда-то я хорошо знал этого художника и мне было
любопытно, что о нем было написано. К сожалению, писание это меня сильно
разочаровало - своим непониманием ни личности К.Васильева, ни, в еще
большей степени, его работ. Приобщившись - с помощью своих друзей-музыкантов, которых у него
образовалось немало (и среди них -
Лоренс Блинов) - к музыке Шостаковича,
он сделал (тушью) прекрасный его портрет. После скрябинского, это была в
эти годы первая фигуративная работа. Она висела у меня в квартире (к этому
времени я получил одну из первых казанских “хрущоб”), ее видели многие и
многим захотелось иметь эту работу. Костя заработал как фабрика, дублируя
ее через стекло. И сегодня этот
портрет висит по меньшей мере в трех десятках казанских, московских и
киевских музыкантских квартирах.
Приобщившись - с помощью своих друзей-музыкантов, которых у него
образовалось немало (и среди них -
Лоренс Блинов) - к музыке Шостаковича,
он сделал (тушью) прекрасный его портрет. После скрябинского, это была в
эти годы первая фигуративная работа. Она висела у меня в квартире (к этому
времени я получил одну из первых казанских “хрущоб”), ее видели многие и
многим захотелось иметь эту работу. Костя заработал как фабрика, дублируя
ее через стекло. И сегодня этот
портрет висит по меньшей мере в трех десятках казанских, московских и
киевских музыкантских квартирах.